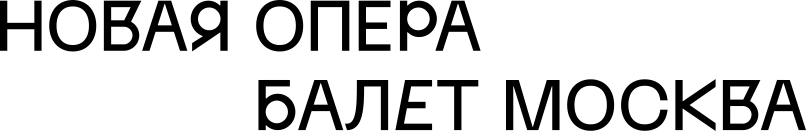ГРАНИ МУЗЫКИ И СПЕКТАКЛЯ
Пополнение театральной труппы дирижером – всегда событие, особенно если это молодой талантливый артист. С июня 2023 года к Новой Опере присоединился Антон Торбеев, дирижер Приморской сцены Мариинского театра, чьи творческие достижения были отмечены как зрителями, так и выдающимися музыкантами современности. В ноябре у Антона Торбеева сразу два дирижерских дебюта в не самых простых постановках театра.
Для начала хочется поговорить о вашем репертуаре. Надо сказать, он у вас достаточно обширный – симфоническая, камерная музыка, оперы, балеты, произведения от Джузеппе Верди до Родиона Щедрина. Где вы приобрели такой серьезный багаж?
В основном, конечно, на Приморской сцене Мариинского театра, а что касаемо балетных спектаклей – уже в театре Петербурга. Кстати, балет того же Щедрина «Конек-горбунок», который мы ставили с труппой Мариинского театра на Приморской сцене, «прискакал» ко мне буквально за две недели до спектакля. И такое бывает.
Я бы не сказал, что владею репертуаром, что называется, «от Баха до Оффенбаха». В театре, где я работал, все равно преимущественно ставят романтику и классику, поэтому в основном мой репертуар скорее романтический с несколькими названиями двадцатого века. Бывали и особенные проекты. Во Владивостоке мы с коллегами создали камерный оркестр «Камерата», и в программу первого концерта я включил все арии из опер Антонио Вивальди, которые смог найти в интернете, плюс какие-то увертюры. Поэтому у нас получился моно-концерт, небольшой экскурс именно по операм Вивальди, без «Времен года». Для дальнейших вечеров я старался брать интересную барочную музыку, например, произведения Жана-Батиста Люлли и Жана-Филиппа Рамо, чтобы получалось своеобразное музыкальное путешествие по Европе.
Насколько давно это было?
Начали мы где-то с 2018 года, это долгоиграющий проект. Сейчас музыканты во Владивостоке продолжают серию концертов, но в программу входят уже другие названия и имена, например, Исаак Дунаевский. Для первых исполнений, конечно, мне хотелось исполнять музыку, которая не особо часто звучит, чтобы это было интересно не только мне, но и слушателям. Во всем нужен баланс.
А в 2016 году, когда труппа Приморского театра только вошла в состав Мариинского, мне выпала честь быть музыкальным руководителем переноса спектакля «Травиата» Верди с исторической сцены на владивостокскую.
А теперь расскажите, каково это – «влетать» в подготовленный не вами спектакль?
Везде своя специфика. Если мы говорим о постановке спектакля с точки зрения музыкального руководителя, то к плюсам можно отнести довольно много факторов: больше времени на репетиционный процесс, можно делать так, как думаю и хочу именно я. Но, с другой стороны, это же всегда очень большой труд – все выучить с солистами, с оркестром, чтобы и хор при выучке учитывал мои пожелания. К таким постановкам всегда более трепетно относишься, особенно если что-то не до конца получилось. Все-таки музыканты – народ чувствительный.
А есть специфика входов в «чужой» спектакль. В таком случае я, допустим, всегда руководствуюсь правилом, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Стараюсь перенять уже имеющуюся сетку, даже если с чем-то не согласен, не ломать структуру спектакля, чтобы вся работа была привычной и удобной для музыкантов. В первую очередь это касается, конечно, балетных постановок, там вообще все строго: шаг вправо, шаг влево – и балет потом затопчет. Поэтому всегда есть свои нюансы и сложности.
Но это мы говорим про разовый ввод в постановку. А если представить, что вам дали спектакль, например, на весь сезон? Который давно был поставлен и через который прошли многие дирижеры?
В любом случае, я постараюсь сделать тот спектакль, который уже был изначально, но, возможно, все-таки с небольшими нюансами.
Я считаю, в уже готовый спектакль «свое» привносится не в виде «давайте играть здесь не пиано, а форте, а этот эпизод – в два раза медленнее или быстрее». Нет, я за то, чтобы вот это «свое» всегда было обосновано, все-таки спектакль – цельное произведение, в котором, как мне кажется, неэтично ломать какие-то важные вещи, уже до тебя внесенные постановщиками. Я не за радикальные изменения, чтобы где-то можно было, например, вставить кусок из другого произведения, а потом продолжить музыку. Я за то, чтобы всё было осмыслено, чтобы каждая нотка проходила через личное ощущение и отношение к музыке.
Вообще сейчас, как мне кажется, интересное время. Знаете, вот существует фраза «важно быть, а не казаться». И сегодня как будто бы важно именно казаться, а не быть. Для меня все-таки главное – основа или истина, за которую я могу крепко держаться. И в первую очередь такой основой для меня становится замысел композитора, а если мы говорим о спектакле, то и идея режиссера, которую дирижер должен постараться воплотить. Естественно, это может быть и со своим отношением. Артист не может исполнять музыку без личного включения, иначе это уже не артист будет. Невозможно сделать, грубо говоря, «репродукцию» спектакля. Все равно любой спектакль – это живой процесс: разные артисты на сцене, разные музыканты в оркестре, что-то постоянно меняется. Ко всему прочему, все происходит в моменте, кто с каким настроением пришел, как настроился. И вся эта череда событий способствует абсолютно неповторимой истории, каждое исполнение на сцене становится уникальным.
Скажите, у вас бывали случаи, когда приходилось одновременно репетировать очевидно разную музыку – как, например, Верди и Корнгольда – на протяжении какого-то времени? Когда утром репетируем одно, а вечером – совсем другое.
О, да! У меня был такой период где-то с 2016 года и до пандемии, когда я в среднем работал по 18 спектаклей в месяц.
Это же почти каждый день!
Именно. Там вообще было все вместе: и по общему количеству спектаклей, и по операм, и по балетам! Конечно, не каждый месяц было ровно по 18, где-то бывало и по 12, но декабрь-январь всегда были со множеством «Щелкунчиков». Это, безусловно, колоссальный опыт, я, наверное, нигде бы такой не получил. Переключаться в таких ситуациях непросто. Я всегда стараюсь очень честно ко всему подходить и отрабатывать по максимуму, не очень люблю «проходное» отношение. Но в какой-то момент я поймал себя на мысли, что вроде бы хочу продолжать, но уже не могу. Силы реально закончились, и в конце концов я просто заболел.
В данном случае, выходит, самоизоляция была как нельзя кстати!
Именно так!
А сейчас давайте поговорим про ваши дирижерские дебюты в ноябре – спектакли «Мертвый город» Э.В. Корнгольда и, собственно, «Травиата» по опере Дж. Верди. Сначала про «Мертвый город». Наша постановка очень сложная – в первую очередь, технически. Интересно узнать ваше мнение о ней после просмотра спектакля.
Это замечательный и отлично сделанный спектакль. Необычное сценическое решение, игра с пространством. И да, постановка, конечно, во всех отношениях сложная. Дирижер без зрительного контакта с артистами, за павильоном – оркестр, который тоже, собственно, не слышит певцов, а те, в свою очередь, не слышат оркестр. И в целом будто все играют и поют на ощупь. Должна быть просто безумная концентрация до самого последнего такта, везде требуется четкий математический счет, иначе можно «разъехаться» и наиграть вообще что попало, а ведь опера-то не маленькая. Плюс многие партии очень сложные. А уж как солистам непросто! В павильоне у них есть мониторы и, безусловно, какие-то звуковые прострелы из динамиков они слышат, но ведь где-то по мизансценам они бегают, где-то сами себя оглушают – в таких ситуациях быстро сориентироваться очень сложно.
У меня уже есть опыт участия в технически сложной постановке. Это был спектакль «Волшебная флейта» Моцарта на Приморской сцене. Там похожая ситуация: оркестр находился в глубине сцены, все действие разворачивалось на авансцене на поднятой яме, и к тому же присутствовала некоторая иммерсивность – часть мизансцен происходила в зрительном зале. Ко всему прочему добавлялась трудность в виде Моцарта – в его музыке совершенно необходимо всем совпадать в каждом такте, у него присутствует особенная фактура, которую никуда не денешь. И если солисты поют, как душе угодно, или же оркестр отстает, то это моментально становится слышно.
Я помню одну репетицию «Волшебной флейты», когда Папагено пел где-то далеко в зрительном зале, а передо мной, естественно, стоял звуковой монитор. И во время исполнения музыки я, ориентируясь на монитор, вместе с оркестром прекрасно совпадал с солистом. Но тут концертмейстер из зала мне говорит: маэстро, оркестр позади. Я ему: не верю, не может такого быть, мы точно совпадаем. Пошел в зал, попросил сыграть – и да, действительно, на какую-то долю были несовпадения. Так что в таких случаях звуковые мониторы могут сыграть злую шутку, динамик вообще не нужно слушать, и получается некоторый когнитивный диссонанс.
В «Мертвом городе», как ни странно, оркестру не настолько критично не слышать певцов, как, например, у того же Верди – у него музыканты должны и чувствовать внутреннюю пульсацию, и ориентироваться на солистов. У Корнгольда я подобных проблем не вижу, фактура и так очень сложная для оперы, предельно заполнена, там столько подробностей! Честно говоря, я эти подробности даже на очень хороших записях не слышу. Смотрю в партитуру в этот момент и думаю: надо же, сколько всего!
Несмотря на это, оперу Корнгольда, конечно, трудно назвать современной. Это же 1920 год, опере больше ста лет! И писал он ее, будучи достаточно молодым – в 23 года. И, как мне кажется, Корнгольд как композитор старался поэкспериментировать со звучанием оркестра с технологической точки зрения. Например, он записывает одну и ту же музыку в разных размерах. Вопрос – зачем? А просто потому, что можно. Такие же сплошные эксперименты, как у Рихарда Штрауса, у которого уже была сложнейшая «Саломея», но он сделал оперу еще сложнее – «Электру».
Даже удивительно, что Корнгольд считается условным родоначальником музыки старого Голливуда, именно его мы слышим в произведениях других кинокомпозиторов.
Да, он же одним из первых получил премию «Оскар» за лучшую музыку к фильму. А в целом, кинокомпозиторы часто друг у друга заимствовали. Впрочем, не только они – все композиторы так или иначе перенимали друг у друга идеи. Но Корнгольд в музыкальном плане очень изобразительный: каждое действие в сценическом пространстве он озвучивает. И это у него, скорее всего, от Пуччини, который в своих произведениях всё досконально прописывал – музыка создавалась именно к тому, что в этот момент должно происходить на сцене. У Корнгольда та же изобразительность. Конечно, в его музыке присутствует не только что-то от Пуччини, есть немного и от Вагнера, и от Рихарда Штрауса, от Равеля, или даже джаза. Какой-то потрясающий синтез всего. Откровенно говоря, партитура оперы «Мертвый город» – одна из сложнейших, которые мне довелось изучать и исполнять, а сама музыка – абсолютно гениальная.
А теперь давайте немного про «Травиату». Мы сейчас вернемся к началу нашего разговора про ввод в уже давным-давно готовые постановки, так как это именно тот случай. Спектакль идет у нас много лет, с ним работали разные дирижеры, ставил его Евгений Колобов, и наша «Травиата» не похожа ни на одну другую – авторская редакция маэстро оказалась, как всегда, смелой и неожиданной. Ко всему прочему, спектакль идет уже много лет, с ним работали разные дирижеры. Как вы будете строить репетиционный процесс?
Разумеется, я постараюсь ориентироваться на первоисточник, партитуру Евгения Колобова. В данном случае у меня есть на кого опереться: концертмейстер Екатерина Маклярская, которая работала с Колобовым в свое время, с удовольствием мне поможет и подскажет, как сделать лучше и как это все задумывалось изначально. Конечно, можно посмотреть записи спектакля под управлением Колобова, но то, что рядом со мной есть человек, который работал с Евгением Владимировичем, бесценно. Его спектакли – практически отдельный вид искусства.
Мы говорили про музыкальные редакции, а ведь Евгений Колобов этим и славился. Он либо ставил забытые оперы полностью, либо перекраивал известнейшие шедевры на свой лад. В последнем случае Колобов не забывал про замыслы композиторов, но интерпретировал их в своем стиле. Брал «Евгения Онегина» Чайковского и превращал его в два часа непрерывной музыки! Ему когда-то за это часто доставалось от критиков, все вопрошали: «Ну разве так можно?»
Здесь ответ один – раз делал, значит, можно. Более того, у такого принципа работы с уже написанной музыкой есть в своем роде продолжатели. Тот же Теодор Курентзис, как мне кажется, идет примерно по этой линии. Я ни в коем случае не критикую и не отрицаю такие методы, хотя лично для меня подобный путь не близок. Сейчас в театрах наоборот стараются убирать купюры и играть как можно больше музыки. Тем более музыка-то действительно прекрасная. Даже, например, в пятичасовом «Доне Карлосе» Верди в Мариинском театре открыты все купюры! И когда слишком часто участвуешь в пятичасовых спектаклях, если честно, закрадывается мысль: может, все-таки вернуть купюры? (Смеется) Почему «Кармен» Бизе идет не в трех актах, а в четырех…
А у нас «Кармен» в двух актах!
…а где-то даже в двух!
Кстати, Евгений Колобов после постановок своих от души сокращенных спектаклей любил повторять: «Не просто же я взял и отрубил, чтобы побыстрее закончить спектакль, в музыке Чайковского и Верди я слышу именно Чайковского и Верди, а не их оперы. Я знаю, что на том свете смогу объяснить Чайковскому, почему я это сделал».
У меня сейчас в памяти всплыла история, которую в одной из своих книг описывал Дитрих Фишер-Дискау [немецкий музыкант, певец и мыслитель – Прим.ред.]. Перескажу ее напоследок.
Как-то ему довелось исполнять Баха с известнейшим дирижером и композитором Вильгельмом Фуртвенглером. И вот во время одной из репетиций маэстро взял очень медленный темп. Фишер-Дискау весь издергался, но не придумал, как же так аккуратно намекнуть дирижеру, что здесь вообще-то можно и побыстрее. Ничего не придумал. На следующей репетиции он подошел к Фуртвенглеру и сказал: «Маэстро, сегодня ко мне во сне приходил Бах и сказал, что в этом месте всё должно быть немного быстрее». Дирижер ничего не ответил, а на следующей репетиции уже Фуртвенглер подошел к Фишеру-Дискау и сказал: «Вы знаете, ко мне сегодня во сне тоже приходил Бах и заявил, что он с вами не знаком».
Беседовала Эллина Темирова